В 9-м павильоне «Мосфильма» прошли съемки кинопроекта режиссера Анны Матисон «Чёрный человек» - по мотивам одноименной поэмы Сергея Есенина. Главную и единственную роль исполняет Сергей Безруков, Народный артист РФ.
В 1-й музыкальной студии «Мосфильма» прошла запись музыки к кинокартине «Спасти бессмертного»
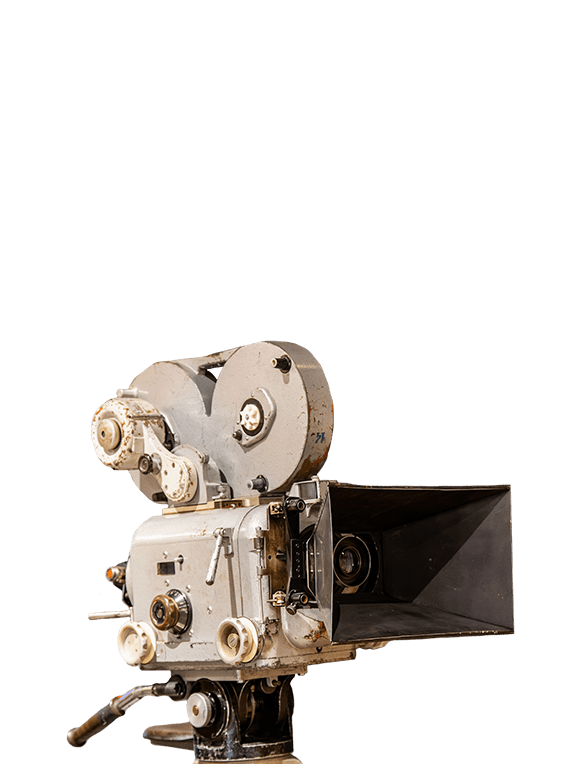
9 декабря на «Мосфильме» начал работу Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 25/26. Ключевое бизнес-событие традиционно соберет более 2000 игроков киноиндустрии России, СНГ и других стран и станет платформой обсуждения тенденций, выработки стратегий развития, эксклюзивных презентаций ресурсов, контента, промо-кампаний и кинопоказов.
Все мы знаем, что музей — это не только место для вдохновения и интересного досуга, но и важная площадка для просвещения. 4 декабря Национальный музей искусства и фотографии в очередной раз подтвердили эту миссию: знаменитую экспозицию «В космос русской души» посетили члены экспертного совета по развитию новых технологий в образовании «Я знаю EdTech».
На «Мосфильме» подходит к концу уникальный для современного кинопроизводства процесс — многоэтапные ансамблевые кинопробы для драмы «Выжить во льдах» режиссера Александра Зачиняева.
Напоминаем контактные данные руководителей ключевых направлений деятельности «Мосфильма».

Во 2-й музыкальной студии киноконцерна «Мосфильм» состоялась запись детского хора для композиции «Молчаливое эхо войны»
В Доме костюма и реквизита «Мосфильма» появились новые образцы – десять комплектов казачьего костюма.
Ничего не найдено. Попробуйте изменить категорию или дату