В 1-м павильоне «Мосфильма» вновь раздаётся дружный хор голосов. 12 сентября на телеканале «Россия» стартовал первый отборочный тур непредсказуемого вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Открыла новый сезон шоу финалистка шестого сезона Софья Бабич из Пензы.
Делегация из арабского государства во главе с председателем Оманского общества кино и театра г-ном Мохаммедом аль-Аджми посетила Киноконцерн «Мосфильм». Гостям продемонстрировали творческие и технологические возможности киностудии, познакомили с новыми производственными объектами, обсудили возможное двустороннее сотрудничество.
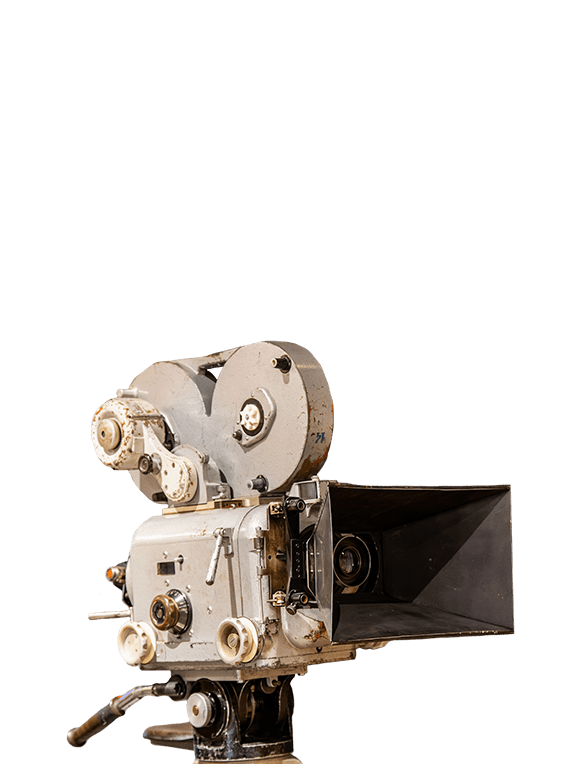
К вековому юбилею знаменитой кинокартины специалисты «Мосфильма» провели работы по оптимизации изображения и звука - теперь «Стачка» доступна к просмотру в улучшенном качестве!
Натурная площадка «Старая Москва – Санкт-Петербург» приняла более ста пятидесяти актеров массовки и более трех десятков лошадей. В локациях «Мосфильма» съемочная группа проведет ещё два съемочных дня.
На производственно-технической базе «Тонстудии» киноконцерна «Мосфильм» подходит к концу звуковое постпроизводство одной из самых ожидаемых картин года — военной драмы «Август». Фильм, снятый Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины», потребовал многомесячной кропотливой работы от звукорежиссеров.
Mosfilm.ru вспоминает основные жизненные и профессиональные вехи замечательного кинематографиста.
Авторская колонка редактора Mosfilm.ru

В рамках финального задания участникам компетенции «Саунд-дизайн» предстояло разработать звуковое решение для нескольких эпизодов кинокартины «Финист. Первый богатырь». В задачи входили монтаж звуковых эффектов и дизайна звука, самостоятельная подготовка всех элементов к перезаписи и премиксу, а также сведение звука в формате 5.1.
Ничего не найдено. Попробуйте изменить категорию или дату