В одном из главных производственных цехов Киноконцерна «Мосфильм-Декорстрой» установлено и запущено новое оборудование - станок СРП-212 «Вектор» для резки пенопласта (пенополистирола).
С 19 по 26 мая в Москве и Санкт-Петербурге проходит XIX Международный медиа-форум «Диалог культур» для молодых журналистов, кинематографистов, художников, фотографов и блогеров.
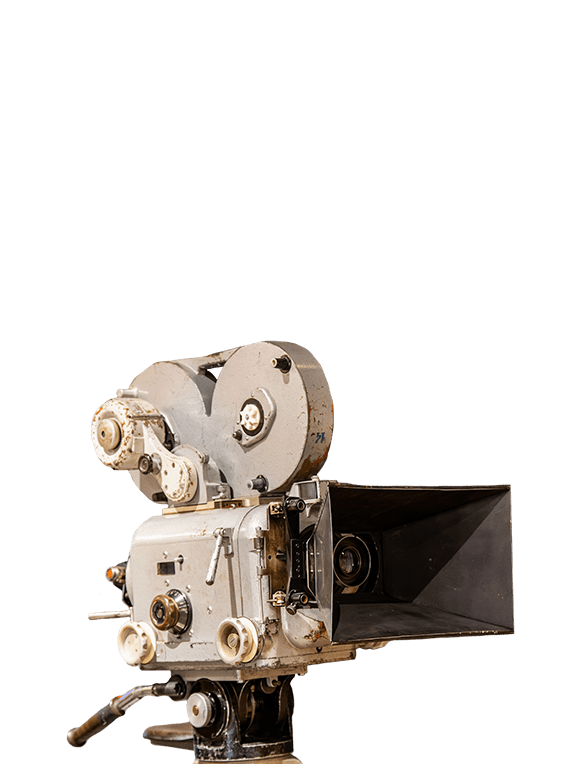
Каждую весну на «Мосфильме» можно наблюдать великолепное зрелище – на территории киностудии расцветает большой яблоневый сад.
Эксклюзивные знания и навыки приобретают в эти дни слушатели мосфильмовского курса «Ассистент звукорежиссера». Mosfilm.ru побывал на одном из практических занятий.
Одним из самых ярких проектов, реализованных на «Мосфильме» в последнее время, стали съёмки киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом» МХТ им. А.П. Чехова.
О показах в Аргентине, Турции и Индии – в обзоре Mosfilm.ru
10 мая ушла из жизни советская и российская актриса Нина Гребешкова. Mosfilm.ru вспоминает основные жизненные вехи и главные роли заслуженной артистки России, супруги и главной музы кинорежиссера Леонида Гайдая.
Китайским коллегам провели подробную экскурсию с посещением Музея «Мосфильма»

6 мая на «Мосфильме» прошла традиционная ежегодная церемония возложения цветов
Подробнее о легендарной военной исторической драме и её восстановлении - в материале Mosfilm.ru
Ничего не найдено. Попробуйте изменить категорию или дату