В апреле все производственные цеха и подразделения киноконцерна вышли на показатели полной загрузки. Сегодня на «Мосфильме» одновременно ведется работа над более чем сорока проектами – это и производство художественных фильмов, (съемочный процесс, построизводство), а также записи и эфиры популярных телевизионных программ.
На текущий момент на международный YouTube-ресурс «Мосфильма» подписано 500 тыс. пользователей – плюс 69 тысяч подписчиков с начала 2024 года.
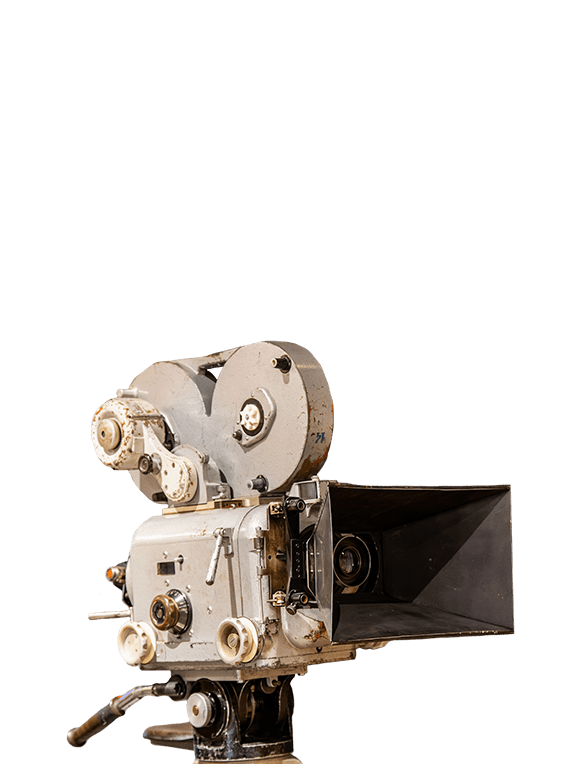
Масштабный образовательный проект направлен на выявление перспективных представителей творческих профессий среди молодёжи (18-35 лет) новых территорий РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей
В феврале Киноконцерн «Мосфильм» запустил новую версию своего официального сайта - Mosfilm.ru.
На «Мосфильме» завершено постпроизводство картины режиссёра Михаила Шевчука (кинокомпания «Пророк»).
Завершился 31-й смотр открытого Фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».
Готовящийся к премьере новый релиз кинокомпании Bubble Studios – продолжение фильмов о приключениях супергероя Игоря Грома («Майор Гром: Чумной доктор», «Гром: Трудное детство»).
Продолжается приём заявок на участие в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters.

Главное фойе Корпуса недавно было полностью отреставрировано, а вдоль стен размещена красочная экспозиция культовых картин из киноколлекции «Мосфильма».
Продюсерские компании «Марс Медиа» и «Арна медиа» приступили к съемкам музыкальной романтической комедии «Плагиатор».
Фестиваль мосфильмовских картин стартовал 10 апреля в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института Мексики (Мехико).
Ничего не найдено. Попробуйте изменить категорию или дату